
 |
| Статьи | Очерки... | Прочтения... | Рецензии | Предисловия | Переводы | Исследования | Лекции | Аудиозаписи | Книги |
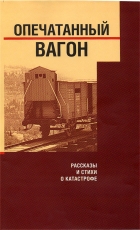
ГОЛОСА ИЗ ОБИТЕЛИ МЕРТВЫХВсе
персонажи книги вымышлены, но я никогда не позволил бы утверждать,
что не было живых людей, похожих на тех, кто здесь изображен. Л.Юрис
Желающему узнать о Катастрофе
европейского еврейства в годы Второй
мирой войны логичнее было бы обратиться к документам, картам, датам, свидетельствам
– хроникам нацистов и союзников, к магнитофонным лентам мемориального фонда
Спилберга, наконец, к бесчисленным воспоминаниям, сведенным в книги. Но эта
книга – не из их числа. Здесь о страшном, не укладывающемся в нормальном
сознании историческом опыте Катастрофы рассказывает искусство – искусство слова. На первый взгляд, читателю может показаться, что он
держит в руках антологию, то есть объединенное общей темой собрание стихов и
прозы. Однако это не совсем так. По моему замыслу, композиция этой книги
подчиняется особой внутренней логике. Попробую о ней рассказать. Представим себе писателя, приступающего к новому
сочинению. Он уже совсем было готов нанести на чистый лист первую фразу, как на
память приходит цитата, и он решает начать с нее. Едва поставлены закрывающие
кавычки и ссылка на цитируемого автора и его прозведение, как по смутной
ассоциации на ум приходит новая цитата, и писатель прилежно заносит на бумагу и
ее. Чем дальше, тем сильнее увлекает сочинителя цитирование – чужие строки
теснятся, не давая выплеснуться собственным словам. В конце концов задуманное
сочинение готово, но таинственным образом оригинальный текст в нем напрочь
вытеснен цитатами, сблизившимися настолько, что конец одной упирается в начало
другой. Да и сами цитаты разрослись, и каждая привела в новую книгу законченное
стихотворение, целый рассказ или фрагменты из романа. Где
же тут сочинитель – тот фантазер, что некогда разложил перед собою чистый
бумажный лист? Сочинитель остался за кадром. Лишь его мысль и его эмоция,
тасовавшие чужие тексты, отпечатались в новой книге отбором цитат и их строем. Едва
ли это удивляет – ведь книг написано больше, чем в состоянии просто окинуть
взором даже самый жадный до чтения человек. Может быть поэтому в последние
десятилетия новые книги все чаще создаются из старого – с помощью перекороя и
лицовки, методом, заимствованным у бедных портняжек прошлого. В
книгу отбирались русские переводы художественных произведений, связанных с
темой Катастрофы. Тема, к которой мы не можем не возвращаться и к которой все
труднее становится возвращаться. Естественно наше желание отгородиться от
ужасов. Затверженность ежегодних церемониалов отупляет чувства. Серая дымка
забвения неотвратимо заслоняет прошлое по мере того, как время движется вперед.
И все же нельзя позволить забвению поглотить страшное прошлое, ведь память –
часть нашей личности. Как наказал некогда учитель наш Моисей: «Помни, что
сделал тебе Амалек... Когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих
со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб
овладеть ею, – изгладь память Амалека из поднебесной. Не забудь!»
(Второзакоение / Дварим, 25:17, 19). Итак,
собранные здесь стихи и прозу рекомендуется читать, как единый текст. Композиция
книги – это контрапункт, и голоса авторов, разделенных временем и возрастом,
жизненным опытом и языком, стройно звучат в новом предлагаемом читателю полифоническом
произведении, которое я назвала «Опечатанный вагон». Название
заимствованно у израильского поэта Дана Пагиса (1936–1986), еврея из
Вены, который, будучи мальчиком, с 1941 года и до конца войны, находился в концентрационном лагере. Опыт
Катастрофы – тот же опечатанный вагон: он герметичен, в него не войти извне,
как невозможно вынести на свет Божий его содержимое. Дан Пагис озаглавил так
поэтический цикл о пережитом, жесткий и иронический. Ретроспективный взгляд,
как камера кинооператора, выхватывает из прошлого образы, обрывки мелодий и последний
лепет идущего на смерть еврея, тщетно пытающегося вписать свой жребий в
библейскую картину мира: ...Как
объяснить: они были созданы по образу и подобию А я был тенью. У меня был
другой создатель... Опыт человека, прошедшего
Катастрофу, напитал поэтические строки скепсисом: сумеет ли словесное искусство
осуществить коммуникацию между двумя мирами, между «там» и «тут», сумеет ли облегчить
груз пережитого, вынесенный «оттуда». Эта книга рассказывает о
Катастрофе в порядке хронологии описываемых событий и преемственности сюжетов,
независимо от того, когда написано произведение. Рассказчики ведут нас от
начала бедствий евреев на занятых нацистами польских, чешских, украинских
землях через гетто в концентрационные лагеря, а затем в лагеря уничтожения. Сквозь
смерть и попытки выжить, сквозь контакты и конфликты с неевреями, через повиновение,
душевную свободу и восстание, вплоть до освобождения и дальше, в мирную жизнь,
все ближе и ближе к нам, ко взгляду извне. Эту
условно хронологическую структуру нарушает предисловие, которое отделено от
конца Второй мировой войны перспективой двадцати пяти лет и очерчивает общую проблематику
обсуждения этой тревожащей, болезненной и взыскующей темы. Воспитанный в
набожной хасидской семье и испытавший на себе ужасы концлагерей Биркенау,
Освенцим и Бухенвальд, Эли Визель (р. 1928, Румыния) представляет
читателю трагический парадокс: когда пережившие Катастрофу молчат, мир
понуждает их к откровенности и желает во что бы то ни стало докопаться до
истины, а когда очевидцы начинают говорить, мир не в состоянии воспринять
услышанное. И тут писатель призывает на помощь изощренность искусства. Документ
о Катастрофе идет к читающему напрямик, и читатель зачастую норовит отскочить в
сторону, как при виде несущегостя навстречу автомобиля. Художественный текст
петляет, прячет факт за придумками, мифами, вешает завесы, за которыми, по
молчаливому соглашению с читателем, скрывается «нечто» из опечатнанного вагона,
то страшное «нечто», о котором читатель осведомлен из другого источника. Эти
иносказания иногда настолько прихотливы и субъективны, что расшифровка их
требует от читателя немалого интеллектуального усилия. Невольно хочется
вспомнить слова еврейского поэта Хаима Нахмана Бялика (1873–1934), написанные
еще в годы Первой мировой войны: «Ведь ясно, что язык во всех его
сочетаниях совершенно не вводит нас во внутренний мир, в абсолютную сущность
вещей, но, наоборот, он сам заграждает нам путь к ним. Вне ограды языка, за его
завесой, дух человека, обнаженный от своей словесной оболочки, вечно блуждает и
мятется. Нет речения и слов, но есть вечное блуждание, вечное "что",
застывшее на устах... Если все же человек достиг дара речи и находит в нем
успокоение, это вытекает из великого страха остаться на мгновение наедине,
лицом к лицу, с мрачным хаосом...»1 Мрачный
хаос Катастрофы изменил смысловые очертания некоторых слов. Известно, что в
конце ХIХ и еще в начале ХХ
века культурное сознание трансформировало огнедышащий паровоз в кровожадное
чудище, несущее гибель индивидууму, как, например, в «Анне Карениной» (1877) у
Л. Толстого, или у Блока: «Под насыпью, во рву некошенном, Лежит и смотрит, как
живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая» («На железной
дороге», 1910 г.). Но после Второй мировой войны культурное зрение выхватывает
из длинного тела поезда не паровоз, а прежде всего вагоны, пассивность которых
наводит ужас именно своей неумолимой исполнительностью: везти, везти, везти неисчислимый
живой груз на муки и на бойню. И даже само железнодорожное полотно теперь пробуждает
не только романтически-мечтательные настроения о дальних путешествиях и вольных
просторах, но и страшную мысль о бесконечной веренице поездов, увозящих евреев
в смерть. Оттого образ вагонов и рельсов – соучастников нацистских преступлений
– столь настойчиво возникает в стихотворениях разных и разноязычных авторов. Прожорливыми,
ненасытными чудищами предстают они в идишской поэме Ицхака Каценельсона
(1885, Карелицы Минской губ. – 1944, Освенцим) «Сказание об истребленном
еврейском народе». Эта поэма пережила войну в бутылке, закопанной под деревом в
концентрационном лагере Виттель во Франции, и впервые была опубликована в конце
1945 года в Париже. Ицхак Каценельсон жил в Лодзи, с 12 лет писал стихи и
пьесы, в которых отразились его жизнелюбие, чувство юмора и склонность к игре.
Вместе с отцом он организовал там еврейский садик, начальную школу и гимназию,
где, беседуя с детьми на идише, обучал их ивриту. «8 сентября 1939 года фашисты
заняли Лодзь, и ивритская гимназия прекратила свое существование. Ицхаку
удалось бежать в Варшаву, где в январе 1940 года к нему присоединились жена и
трое сыновей. Варшавское гетто и подпольные гимназия и лицей, где по ночам
учительствовал Ицхак Каценельсон; депортации из гетто в лагеря
уничтожения; гибель жены и двух младших мальчиков; участие в легендарном
восстании и удачный побег с фальшивыми документами. И снова в руках фашистов,
на этот раз во Франции; лагерь, эшелон, вывозящий евреев в Польшу, а в
мае 1944 – газовые камеры Освенцима»2. Пришельцем,
пробуждающим память живого зеленого ландшафта, предстает вагон в поэтическом
цикле «Пейзаж в дыму» израильского поэта Итамара Яоза-Кеста: Вагон. Пейзаж в
смятении. Свою тетрадь листает в
страхе: лес, туннели, плёс. (Что память?
Время + пространство). И
еще: ...дорог
тянулась пятерня туда, где власть огня, воспоминаний
дым. Итамар Яоз-Кест (р.
1934, Венгрия) в годы войны вместе с семьей был депортирован в концлагерь
Берген-Бельзен в Германии, поэтому и цикл «Пейзаж в дыму», имеющий подзаголовок
«Главы о Берген-Бельзене, 1961», автобиографичен. С 1951 года поэт живет в
Израиле, где публикует стихи и переводы и основал издательство «Экед»,
выпускающее по большей части современную переводную поэзию. Стихи Яоза-Кеста о
Катастрофе напечатаны лесенкой, словно с намерением обозначить вокруг
незаполненное словами пространство, где и разыгрывается та не поддающаяся
пересказу трагедия, отдельные штрихи которой проступили в коротких, обрывающихся
строках. Дорисовать опущенные детали предлагается воображению читателя. Память
о Катастрофе навсегда связала вагоны и рельсы с исполнением плана
тотальнного истребления евреев. Особенно отчетливо видна эта связь посетителю
мемориала в Освенциме, например такому, как поэт из Нидерландов Геррит
Ахтерберг (1905–1962): ...Вагон
оцеплен в дальнем тупике, На рельсах
смерти брошен и забыт. Ждать – тяжело,
надеяться – напрасно. А нам сегодня так хочется увидеть
их раскаяние, найти их преображенными, мирными и безопасными, отошедшими от
своей страшной пособнической роли. Об этом стихотворение израильского поэта Авнера
Трайнина (р. 1928) «Возвращение в Освенцим»: ...И знал я
лишь одно: я не умру, пока их не увижу вновь: умолкших,
ржавых, зарытых в травы, травы, травы… Катастрофа
изменила также коннотации слова «дым». Воспитанному на русской культуре
человеку памятно державинское «Отечества и дым нам сладок и приятен»,
повторенное у А.С. Грибоедова как «И дым отечества нам сладок и приятен».
Полагают, что «первый поэт, почувствовавший сладость в отечественном дыме, был
Гомер», отзвук стихов которого находят у Овидия и, наконец, в латинской
поговорке «Dulcis fumus patriae», то есть «Сладок дым отечества»3.
Но после лагерей уничтожения сладостное воспоминание о дыме домашнего очага омрачено
мыслью о дыме, поднимающемся над трубами крематория и имеющем сладковатый трупный
запах. Для иллюстрации новой семаники древнего образа процитирую несколько
строк из страшного стихотворения Нелли Закс, оставшегося вне этой книги: О печные трубы Над жилищами смерти, хитроумно
изобретенными! Когда тело Израиля шло дымом Сквозь воздух, Вместо трубочиста звезда приняла его И почернела.4 Как непохожи эти почерневшие
от копоти звезды на ясные ночные светила ахматовской поминальной строки: «Все
души милых на высоких звездах» (1944)! В
стихах и прозе о Катастрофе к дыму крематориев примешиваются клубы дыма, стелющиеся
вдогонку за паровозами. Этот новый, зловещий дым проходит лейтмотивом сквозь
многие произведения: он окутал пейзаж в стихах Яоза-Кеста, он стал новой формой
существования убитых и сожженных, как сказано явно: «И я... / поднялся легко,
без стесненья, синий... / Дым к всемогущему дыму / без образа и без
тела» (Д. Пагис), «под облаками, одно из которых принадлежит ей, маленькой Рут,
поскольку поднялось дымком от ее сожженного тела...» (И. Амихай) или
закамуфлированно: Не
вздумайте бежать вместе с искрами из трубы
паровоза: вы человек и
сидите в вагоне. (Д. Пагис) или так: у раввина дочки
умницы у раввина дочки красавицы очень умны
очень хороши их втащили за косы прямо в небо
без крыльев без волос и без мяса на костях Этот последний пример взят из
поэтического цикла Александра Розенфельда, а выделенные мною слова – не что
иное, как перифрастическое описание дыма. Еще более впечатляющая
матаморфоза постигла библейскую полосатую рубашку – ктонет пасим – знак
особой любви праотца Иакова к Иосифу, долгожданному сыну от любимой жены Рахели:
«Израиль любил Иосифа более всех сыновей, и сделал ему полосатую рубашку»5
(Бытие / Берешит, 37:3). Эта рубашка украшала и возвеличивала Иосифа, чем
будила зависть и ненависть его братьев. После Катастрофы одежда,
символизировавшая превосходство Иосифа над остальными детьми Иакова, переосмыслилась
как одежда избранничества евреев на уничтожение и стала в ивритской
поэзии устойчивым мотивом Катастрофы. В нашей книге есть два стихотворения на
эту тему – «Рубашка заключенного» Авнера Трайнина и «Полосатая рубашка» Леи
Гольдберг. Они являют характерный пример активнейшего присутствия Библии в
поэзии современного Израиля, их попросту невозможно понять, если не знаешь всех
перипетий биографии Иосифа. Примечательно, что в обоих стихотворениях упомянут «отец»,
хотя здесь это не Иаков, а Бог. Библейская история помогает поэтам постичь суть
событий нашего времени путем «опровержения» знакомых коллизий и прийти к
выводу, что наше культурное мировидение разбивается о реальность. Она также
позволяет далеким от религии авторам задать один из самых болезненных для
размышляющего о Катастрофе человека вопросов: «Почему молчал Бог, когда так
страдал Его народ?». Здесь не место вести полемику по этому вопросу – важнее
указать, что фигура Бога незримо присутствует во многих произведениях и всякий
раз читатель встречает иное отношение к ней. События Катастрофы заставили ее
очевидцев и тех, кто родился позже, пересматривать многие казалось бы первичные
категории и понятия. Например, понятие о том, что считать человечным и что –
бесчеловечным. Ведь как часто желание сохранить веру в человека диктует нам
отмахнуться от злодеев: нелюди! Однако опыт Катастрофы отметает это
спасительное решение. Пережившие его писатели, в том числе Эли Визель, Ежи
Косинский и Дан Пагис утверждают: «Они несомненно были людьми». Что это были за
люди, описал в своем гиперреалистическом повествовании Ежи Косинский,
американский писатель, автор одного из самых страшных романов второй половины
ХХ века. Книга
«Раскрашенная птица» Ежи Косинского (1933–1991) не имеет дела с гетто и
депортациями, однако непосредственно связана с темой Катастрофы. Эта связь не
только в хронологии повествования, совпадающей со Второй мировой войной, и не
только в перенасыщенности прозы ужасами. Она прежде всего в скрупулезном
изумленном всматривании ребенка в творимое людьми зло. Маршрут вынужденных
скитаний мальчика связывает воедино жуткие эпизоды, донельзя сгущая атмосферу
беспричинного насилия и ненависти. Изощренность зла, его видимая безграничность
трансформируют заложенную в сознании мальчика картину разумного мира и превращают
действительность в вакханалию персонифицированного Зла, всесильного и наглого,
покоряющего и покупающего людские души, почти не встречая сопротивления. Не
имея сил и интеллектуальной зрелости заключить зло хоть в какие-то
ограничительные рамки и не видя ничего, кроме зла, герой книги делает
логический вывод: чтобы преуспеть, нужно заключить союз с Дьяволом. Невыносимая
реальность вытесняет сознание в миф и мобилизует в ребенке новые, иные
жизненные силы и инстинкты. А читателю этот миф помогает справиться с этой
тяжелой, почти беспросветной книгой. Герой,
как и автор, не погиб, но, как кажется, обнажившийся перед писателем в годы
беззащитного детства мрак человеческой души вызвал непримиримый конфликт
взрослого с жизнью: Косинский не нашел достаточной опоры ни в наставлениях
еврейских мудрецов прошлого, ни в заслужившем признание литературном
творчестве, ни в любви близких – и покончил с собой. «Ежи Косинский родился в Польше в 1933
году. Страшное время и трагическое место для еврея. Но он остался жив. Родители
сменили еврейскую фамилию Левинскопф на польскую, их укрыли католики, и они
спаслись: горстка из огромной семьи, они попали в малое число польских евреев,
переживших Катастрофу... На встрече с читателями в Иерусалиме Ежи Косинский
говорил, что польские крестьяне – очень простые люди, может быть, даже
примитивные, со множеством страхов и предрассудков, но не они задумали и
совершили массовое убийство, убийство народа. Это сделали
другие люди – цивилизованные, начитанные, воспитанные на музыке Вагнера, стихах
Гете и философии Канта, люди культурные. Польские крестьяне сами были в том
доме, который подожгли пришельцы... Он пишет
по-английски. Ту первую свою книгу ("Раскрашенную птицу") он не мог
писать по-польски, это было бы слишком больно, ему нужно было авторское
отстранение, которое давал ему неродной, приобретенный язык...
"Существительное и глагол – вот и все, что мне нужно. Оставим наречия и
прилагательные Набокову и Конарду"... Проза требует от него времени и
концентрации, а итог – восемь книг за тридцать лет, и каждая книга – три-четыре
года жизни. С утра до вечера за письменным столом. Американский
писатель с польской фамилией, он считает себя евреем. Но и поляком тоже,
мальчиком из города Лодзь, выросшим на польской истории и польской литературе.
"Откуда это желание писать?.. Традиция повествования – чисто еврейская
традиция, никто не умеет делать этого лучше. Эта традиция
пришла к нам из Библии... Иудаизм для меня – это бесконечное преклонение перед
чистейшими элементами бытия и жизни. Ключ к моим новым вещам – это наше
прошлое, история нашей мысли, вот почему я читаю Талмуд – я нахожу там новые
формы для своих вещей". Он говорит, что писать о еврействе нужно, не
касаясь Катастрофы. Ибо писать о ней значит не только популяризировать
жертвы, но и говорить об архитекторах этого дьявольского проекта.
"Пропагандируя Катастрофу, я оказываюсь винтиком в пропагандистской машине
Геббельса. Каждый раз, когда я в гневе хлопаю дверью истории, я слышу, как
изнутри мне отвечает немецкий голос"».6 Не справился с жизнью и
другой прошедший сквозь Катастрофу автор: весной 1970 года в Париже он прыгнул
с моста в воды Сены. В картотеке полиции значилось: «Пауль Лео Анчель,
гражданин Австрии, 1920 года рождения, еврей, литератор, в Париже проживал
постоянно с 1950 года». Читатели знают его по псевдониму Пауль Целан.
Уроженец города Черновцы (сегодня там есть улица его имени), сын лесоторговца,
он был воспитан в традиционном еврейском духе, освоил начала иврита. В доме говорили
по-немецки, но он знал несколько языков, в том числе русский, и с 28 июня 1940
по 22 июня 1941 года имел советское гражданство. В годы нацистской оккупации Целан
потерял родителей и чудом выжил в румынском трудовом лагере, строя дороги. В
1945 уехал из СССР в Румынию; в 1948, когда в Вене вышел его первый поэтический
сборник «Песок из урн», сумел перебраться в Австрию, а затем переселился в
Париж. Целан жил литературным трудом, писал стихи и много переводил, в
частности с русского на немецкий (Блока, Есенина, Мандельштама)7.
Отграниченный от мира грузом пережитого, он старался разложить давившую его
тяжесть по строкам стихов. Одно
из самых знаменитых стихотворений Пауля Целана – «Фуга смерти» – не связывается
ни в повествовательный, ни в лирический сюжет. Апеллируя к полифонической
музыкальной форме, оно подчинено единому трагическому ритму разобщенных
голосов: узники и нацисты, бесправные жертвы и опьяненные властью насильники,
тип нордический – и ставшие пеплом семиты. Двумерного листа книги и одномерного
луча строки не хватает для того, чтобы воссоздать сложную картину Катастрофы (о
чем тоже пишет во введении Эли Визель). Образы-эмблемы метят типические
ситуации уничтожения – расстрелы у края вырытого пленниками рва, травлю
собаками, кремацию удушенных в газовых камерах и душегубках. Но рядом с
жертвами неизменно присутствует палач: он не только убивает, он скучает по
семье, пишет письма в далекую Германию, вспоминает свою любовь. Все это противоборствует
и сосуществует одновременно: голоса перебивают друг друга, повторяют сказанное,
потому что борются с нехваткой координат поэтического текста подобно тому, как
найденная европейскими художниками перспектива преодолела отсутствие на холсте
третьего измерения. С
жанровой точки зрения, псалом (на иврите техила) означает славословие.
Библейские псалмы славят Господа, и даже жалуясь на тяготы судьбы, псалмопевец
восхваляет Создателя, поскольку признает Его исключительную способность менять
порядок вещей. «Псалом» Целана тоже обращен к Нему, хотя Он является поэту
через Свое отсутствие. Я не знаю, разуверился ли Целан в Боге, но даже если
так, безбожие воспитанного в религиозной семье еврея иное, чем мировоззрение потомственного,
ничего не знающего о религии атеиста. Ставший безбожником или крититкующий
иудаизм еврей всю жизнь полемизирует с Богом, которого хочет и не умеет
вычеркнуть из картины мира. Таков был Иегуда Амихай, не простивший Богу
Катастрофу и в стихах постоянно споривший с Ним. В «Псалме»
Целана поражает другое: как и в Торе, человек у него подобен Создателю, поэтому
коль мы – Ничто, то и Он оказывается Никто. Это отражение библейского подобия
подчеркивается и в цитированном уже стихотворении Дана Пагиса: «У меня был
другой создатель... И я убежал к нему... Дым к всемогущему дыму без образа и
без тела» («Свидетельство»). Пауль
Целан смотрит на жертвы не глазами Бога, для которого существование избранного
Им народа не пресеклось даже после исчезновения шести миллионнов и который
знает, что ушедшим стало наконец легко. Поэт смотрит на убитых глазами человека
и не хочет утешаться грядущими поколениями, для него тот, кто ушел, ушел
безвозвратно. В связи с этим различием зрения вспоминаются сетования Иова: «Человек,
рожденный женою, кроткодневен и пресыщен печалями... Для дерева есть надежда,
что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли он него отрастать не
перестанут. Если и состарился в земле корень его и умер во прахе пень его, то
почуяв воду оно зацветет и пустит ветки, будто вновь посаженное. А человек
умирает и обессилел; скончался человек – и где он?» (Иов, 14:1, 7-10). Поэтесса
Нелли Закс (1891–1970) родилась в Берлине, в семье еврейского
просвещенного фабриканта, и в юности была очарована немецким романтизмом и легендами
немецкого средневековья. Ее кумиром тогда была шведская писательница Сельма
Лагерлёф, ей она посвятила свою первую книгу, и она же в 1940 году помогла
Нелли Закс эмигрировать в Швецию. Эмиграции предшествовали разлука с родными, которых
увезли в концлагерь, и жизнь в тайнике, где Нелли Закс скрывалась от нацистов. После
войны, «вплоть до своей кончины, она жила в той же стокгольмской квартире, куда
ее забросила судьба – одинокая, старая женщина в чужом городе, потерявшая
друзей, родных, родину, обожженная страшным опытом, поставленная на самую грань
безумия»8. Гибель
семьи и уничтожение народа привели к переосмыслению бытия: ассимилированная
еврейка восприняла национально-религиозное мировидение, а ее творчество
постоянно возвращалось к ужасам Катастрофы. Первый
поэтический сборник Закс вышел в 1947 году в Восточном Берлине под названием «В
жилищах смерти», далее последовали сборники «Звездное затмение» (1949), «И
никто не знает, как дальше» (1957), «Побег и преображение» (1957) и др. Немецко-еврейская
поэзия Нелли Закс получила международное признание. В 1966 году ей, вместе с
израильским писателем Шмуэлем Йосефом Агноном, была присуждена Нобелевская
премия по литературе. Шведская Академия отмечала, что Нелли Закс «из
второстепенной немецкой поэтессы, писавшей о природе, выросла в поэта,
обретшего мощный голос, который достиг сердец людей во всем мире эхом еврейского
мистицизма, протестующего против страданий своего народа»9.
Ее
выношенные в годы войны и опубликованные позднее стихи, самый голос поэтессы
были отданы национальной трагедии. Груды детских ботинок, запечатленный на
снимке документальный памятник детям – жертвам нацизма, продиктовали ей
стихотворение «Кто же вытряс песок из ваших башмаков?» Здесь конкретный и
будничный песок, застрявший в башмаках тех, кто их больше никогда не наденет,
характерным для еврейской религиозной традиции образом перебрасывет мостик из
середины ХХ столетия в прошлые изгнания и страдания, начиная с рождения народа
в странствиях по песку Синайской пустыни. Реалии Европы и Земли Израиля, скорбь
по несостоявшимся мудрецам, не нашедшим языка тоскующим душам и довременно
вернувшимся в прах телам – вот лаконичный словарь стихотворения, бунт поэзии
против убийства и забвения. Стихотворение Нелли Закс «Хор
спасенных» говорит о невозможности стереть персональный опыт Катастрофы. За выживанием
не следует возвращение к нормальной жизни. Спасенные отмечены патологическим
восприятием, особой чувствительностью к некоторым образам, например, рычащего
пса. Близость всесильной смерти лишила их прежней витальности: тот, кто побывал
инструментом в руках у смерти, потерял волю и не может активно участвовать в
жизни. В
рассказах израильских писателей Иды Финк и Аарона Аппельфельда тоже затронуты
проблемы, вставшие перед спасенным в новой, мирной жизни. Победа союзников и
капитуляция Германии положили конец массовому уничтожению евреев, позволили
многим вернуться на родину или нелегально попасть в Израиль, но как жить, если
повреждено не только тело, но и – что еще сложнее – душа. Как написал в своих
неизданных пока мемуарах израильтянин Мордехай Пельц, который в годы немецкой
оккупации скрывался, будто зверь, в лесах Западной Украины: «Человек, прошедший
Катастрофу... более не тот, кем он был прежде. Даже если ему как-то удастся
спрятать под маской то, что у него в душе, его физические и душевные раны
никогда не зарубцуются. Правда, воля к жизни и жалание забыть сильны, и такой
человек изо всех сил старается наладить нормальное существование, но мало кто
преуспел в этих попытках». В
одном из интервью Аарон Аппельфельд рассказал о себе следующее: «Я родился недалеко от Черновиц в 1932
году. Я был единственным сыном – чем более ассимилирована семья, тем меньше в
ней детей. Мой дед жил в Жадове, это недалеко от Вижница, и лето я проводил у
него. Там я впитал еврейскую традицию. Мой отец много
лет провел в Вене. Его послали учиться в гимназию. Он занимался моторизацией
мельниц и был состоятельным человеком. Он был также чрезвычайно образованным.
Немецкая культура господствовала в нашем доме. Мать я помню мало, ее убили в
первые же дни войны в 1940 году. Немцы и румыны убили ее, когда вошли в город.
Мне тогда было восемь. Это было летом.
Нас, евреев, собрали вместе и погнали пешком. Вели с места на места. Только
пешком, от местечка к местечку. В какое бы местечко мы ни пришли, евреев там
уже не было. Нас селили в разграбленных домах. В каждом местечке мы
задерживались на день-два. Они были пусты. Дома стояли разверстые, ни окон, ни
дверей. Так продолжалось три-четыре месяца. По дороге умерло много евреев. Так мы
добрались до Украины. В каком-то опустевшем колхозе близ Могилева-Подольского
мужчин отделили от женщин – для работы. Уже была зима. С августа по зиму много
людей умерло в пути. Весь тот путь я
прошел вместе с папой. Но в Могилеве-Подольском отца забрали, он просто исчез.
Помню, я долго плакал. Я остался один. И тогда я
сбежал. Один. Мне повезло, я знал украинский, потому что в нашем доме была
служанка-украинка. Лицо у меня не было еврейским...»10 Подобно герою Ежи Косинского,
Аппельфельд долго и мучительно странствовал, в конце войны нашел временный
приют в итальянском монастыре, где его хотели обратить в христианство, пока
наконец не встретился с бойцом Еврейской бригады11,
который помог ему перебраться в Израиль в 1946 году. Ему было 14, он не имел
школьного образования, но умел работать. Несколько месяцев он как нелегальный
иммигрант отсидел в британской тюрьме в Атлите, где на стене одного из
сохраненных для памяти бараков выцарапано его тогдашнее имя «Эрвин
Аппельфельд». Аппельфельд
пишет на иврите. Тема Катастрофы – сквозная тема его творчества: «Написанное о
Катастрофе – это или вопль, или воспоминание. К обоим этим жанрам я отношусь с
почтением... Но я не пошел ни по одному из этих путей. Я спросил себя: как
явилась нам Катастрофа, как она течет в нашей крови и как она формирует нас как
живых людей. Я стараюсь это понять». Рассказ
«Берта» взят из его первого сборника «Дым» (1962), о котором автор сказал: «Там
говорится о людях, желающих убежать от воспоминаний, и о том, как воспоминания
настигают людей. Я утверждаю, что Катастрофа является частью более широкой
еврейской темы – темы еврея, бегущего от самого себя... В последние сто лет
еврей методично занимается саморазрушением, и не случайно внутреннее разрушение
инициирует внешнее». Это
рассказ необычный. В нем, как это чаще бывает в поэзии, смысл интуитивно
угадывается читателем. Обращает на себя внимание явное нежелание автора
говорить о том, что было в Европе, и о том, как попали Макс и Берта в «Страну»,
то есть в Израиль. Ничего не сообщает он и о Максе – неизвестно, как он
выглядит, сколько ему лет. Зато мы приблизительно представляем себе портрет
Берты, знаем, что она остановилась в своем развитии. Об этом ее слабоумии мы узнаем
по реакциям и репликам Макса. Казалось бы, можно сделать вывод, что Макс – во
всех отношениях нормальный человек. Однако дальнейшее повествование показывает,
что это не так. Во-первых, Макс не способен к анализу ситуации – ни в прошлом,
ни в настоящем. Во-вторых, Макс не наладил истинной коммуникации с внешним
миром, несмотря на то, что работает и по роду работы входит в контакт с большим
числом людей. Собственно, весь рассказ и должен подвести нас к тому, что Макс и
Берта – очень похожи и близки по внутреннему складу, хотя даже этого сходства
Макс не сумел распознать. Избежавший смерти в годы Катастрофы, Макс стал
калекой: его сознание не умеет увязывать смыслы деталей в единую картину,
подобно тому, как вязание «дурочки»
Берты не может перейти от лоскутов к цельной вещи. Это травмированное сознание,
несколько лет мобилизованное лишь на то, чтобы выжить физически, позднее, уже после
войны и в условиях нормального существования, оказалось не способным сделать
верный этический выбор. Австрийский
еврей, психолог Виктор Франкл в 1946 году опубликовал автобиографическую книгу о
бытии узников нацистского концлагеря («И все же сказать жизни: "Да"»).
С позиции ученого, исследователя человеческой психики и поведения, он утверждает,
что в живых остались не альтруисты и не самые моральные люди. Это не означает,
что выжили одни негодяи: просто инстинкт самосохранения приказывал узнику взять
ломоть потолще, чуть-чуть отступить назад, когда на поверке отбирают на тяжелую
работу, натянуть на себя побольше одеяла, которого все равно не хватает на
всех. Или, говоря языком стихотворения Дана Пагиса «На поверке» (примечательно
двоение смысла слов «не берите меня в расчет»): ...я не тут, меня нет, я ошибка, я гашу поскорее глаза, свою тень я
стираю. Не берите меня в расчет, пожалуйста,
пусть уж счет сойдется без меня... Микроскопические
нарушения этики не гарантировали спасения, но, взятые вместе, они создавали
хрупчайшую защитную скорлупу – и всегда за счет того, кто в Писании называется «ближним».
Если человек оставался в живых, эти мелочи царапали память, лишали покоя,
угнетали и на фоне чудовищных потерь разрастались неимоверно. Рассказ «Заноза»
как раз о том, как выжившему хочется и невозможно поделиться подобной мелочью с
теми, кто не попал в «опечатанный вагон Катастрофы». Писательница
Ида Финк с 1957 года живет в Израиле, в городе Холон, и пишет
по-польски. Она родилась в польском городке Жаброше (теперь Украина), где в
период оккупации немцы устроили гетто. В 1942 году ей удалось бежать, и она
«пережила войну по арийским документам». О том, сколько горечи, трагизма и
беспредельного унижения скопилось за этими сухими анкетными словами, пишет не
только она, но и польский писатель Ежи Анджеевский, и русскоязычная поэтесса в
Израиле, наша современница, бывшая москвичка Юлия Винер, ведь
поставленный вне людского сообщества еврей не осмеливался ни просить о помощи,
ни надеяться на спасение. А
спасаться, по мнению героини второго в этой книге рассказа Иды Финк «В ночь,
когда Германия капитулировала», имело смысл только в том случае, если после
всего ты мог открыто жить евреем. Клара «предвкушала то огромное облегчение,
которое принесли бы ей два слова, произнесенные вслух». После трех лет
вынужденной лжи было так трудно сказать «я – еврейка», но только эти слова
означали для девушки истинное освобождение и возврат к себе, жизненно важный
возврат к своему еврейскому имени. Как известно, библейская книга Исход (Шемот)
начинается словами: «Вот имена сынов Израилевых, которые пришли в Египет...», а
комментатор Баал га-Турим поясняет: «Оттого, что не изменили свои имена, были
избавлены и выведены из Египта». В реалистическом рассказе, где о Боге ни
слова, эта связь между именем еврея и его избавлением представлена в зеркальном
отображении: чуждое имя способствовало избавлению в покинутом Богом мире, а
избавление позволило вернуть себе истинное имя. В произведениях прозаиков
Польши и СССР, а также в творчестве пишущей по-польски израильтянки Иды Финк,
один из сборников которой откровенно называется «Заметки к жизнеописанию», доминирует
реализм. Предельно реалистично и творчество пишущего по-английски Леона Юриса. Леон Юрис (1925–2003)
родился в Балтиморе в семье еврея-иммигранта из России, который до того успел
некоторое время пожить в Палестине. Его отец был бедняком – расклейщиком
объявлений, владельцем магазинчика, но сыну сопутствовала удача. В 17-летнем
возрасте он ушел в армию и в составе взвода морской пехоты участвовал в боевых
действиях на Тихом океане. Опыт военных лет отразился в первом его романе
«Боевой клич» (1953), который был восторженно встречен читателями и сразу
экранизирован. Его третий роман «Эксодус» («Исход», 1958) – о нелегальной
иммиграции евреев послевоенной Европы в Палестину и о борьбе евреев Земли
Израиля за право на собственное государство – принес ему мировую известность. «Леон Юрис был
энергичным и бесстрашным человеком, любил приключения и путешествия, которые
были ему творчески необходимы как писателю, и неоднократно рисковал жизнью,
оказываясь в самых горячих точках, в эпицентре событий, которым было суждено
вскоре стать историей. Так, в поисках материала для "Экзодуса" он
исколесил тысячи километров и оказался, в конце концов, к 1956 г. на Ближнем
Востоке, где в качестве военного корреспондента комментировал для американской
прессы израильскую Синайскую кампанию. Впоследствии этот опыт послужил
материалом для автобиографического романа "Перевал Митлэ". Уже в начале 60-х "Эксодус"
появился в еврейском самиздате и приобрел неофициальный статус "книги,
делающей сионистов". Для тысяч евреев бывшего СССР эта книга, вернувшая им
гордость за свое еврейство, стала путеводной нитью в возрожденное еврейское
государство Израиль. Первый перевод этого романа на
русский язык был выполнен в 1963 г. в одном из потьминских лагерей
политзаключенным Авраамом Шифриным. Когда в 1973 г. Авраам встретился с Юрисом
в Нью-Йорке и рассказал ему о небывалом успехе "Эксодуса" среди
евреев СССР, Юрис совершенно по-детски обрадовался и сказал: "У меня к Вам
большая просьба, позвоните моему папе и расскажите ему об этом, а то он никак
не верит". Позднее роман был экранизирован в США и оказал огромное влияние
на отношение американцев к Израилю».12 Материал для романа «Милая,
18» о героизме и трагедии восстания в Варшавском гетто Юрис собирал в Восточной
Европе, опрашивая уцелевших в Катастрофе евреев и местных жителей. Названием
для романа послужил адрес одной из конспиративных квартир еврейских
подпольщиков. Для Юриса было внутренне необходимо показать еврейское
сопротивление нацизму. В интервью израильской газете «Джерузалем пост» в 1979
г. он прямо сказал: «Я люблю евреев, готовых постоять за себя». Тут
мы подходим к еще одной болезненной теме, связанной в нашем сознании с
Катастрофой. Помню, в отрочестве я спорила с отцом, отстаивая осмысленность заранее
обреченного на гибель восстания в Варшавском гетто. Возражая мне, папа тогда
говорил, что если бы евреи потерпели еще немного, часть из тех, кто погиб,
могла бы быть спасена освободителями. «Мы хотя бы доказали миру свое
достоинство!» – горячилась я... Теперь я отношусь к этому иначе. Я знаю, что нам
некому было доказывать свое достоинство: вряд ли имело смысл искать уважения
тех, кто отказал нам в праве на существование, будь то страны, не впускавшие
нас к себе перед Второй мировой войной, или люди, выдававшие нас нацистам на
оккупированных землях. А праведники мира, спасавшие нас с риском для себя и
своих близких, вряд ли нуждались в каких-либо доказательствах. Они спасали не евреев-героев,
а беспомощных и обессиленных. В целом же ситуация была такая, что нас заведомо
исключили из списков живущих. Как объясняет польская женщина в рассказе родившегося
в Польше, а с 1958
года жившего в эмиграции – в
Германии, Израиле и США Марека
Хласко (1934–1969) «В поисках звезд»: «Не хотят уходить.
Некуда, говорят, им идти. И все равно рано или поздно это должно случиться».
Так и было: в годы войны евреи остались даже не на бесплодной необитаемой земле
– со всех сторон их окружали враги. И пусть в стане врагов порой находились
друзья, их было так немного, что ощущение нравственного падения человечества
погасило в евреях желание бороться за свое место среди таких людей. Но вернемся к литературе. Проза Юриса стремится к убедительной правдивости документа, как и роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», как повесть Ежи Анджеевского «Страстная неделя» или цитированный рассказ Марека Хласко. Этому впечатлению достоверности способствуют вкрапленные в повествование даты и топонимы, будто и вправду протоколируются факты Катастрофы. Василий Семенович
(Иосиф Соломонович) Гроссман (1905–1964) родился в Бердичеве и прожил
там, с перерывами, до 1921 года. «Бердичев был (и остается) среди нескольких
универсальных символов российского животного антисемитизма», – пишет биограф
писателя Шимон Маркиш13.
В 1929-м Гроссман окончил физико-математический факультет Московского
университета, работал инженером в Донбассе. С 30-х годов начал печатать
рассказы и роман из жизни рабочих. В воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» Илья
Эренбург отметил: «В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий
Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не
страшась множества придаточных предложений»14.
Годы войны он провел на фронте – был военным корреспондентом газеты «Красная
звезда». Однако Катастрофа напомнила Гроссману о его происхождении. Он оказался
в числе первых очевидцев ее последствий, в числе первых, кто собственными
глазами увидел опустевшее гетто, наполненные труппами противотанковые рвы,
фабрики смерти. Вместе с Эренбургом они работали над «Черной книгой» –
сборником документальных материалов и свидетельств о зверствах нацистов и
истреблении евреев на территории СССР и Польши. Книга со вступительной статьей
Гроссмана была набрана, но уничтожена при расправе с Антифашистским еврейским
комитетом. Публицистическая повесть Гроссмана «Все течет» стала вторым, наряду
с солженицынской книгой «Архипелаг Гулаг», произведением, разоблачающим
советский режим и «завоевания революции». «Роман В. Гроссмана “Жизнь и судьба” посвящен
памяти его матери, Екатерины Савельевны, не уехавшей из Бердичева из-за того,
что не на кого было оставить больную племянницу Наташу. Она была учительницей
французского языка, люди, видевшие ее в гетто, рассказывали Гроссману, что она
продолжала там заниматься с детьми. О последних ее минутах никто не мог
рассказать – он ездил в Бердичев, разыскивал очевидцев – все были расстреляны
вместе с нею»15. Катастрофа перевернула
Гроссмана, под ее влиянием он осознал себя евреем и, оставаясь русским
писателем, сделался бескомпромиссным поборником правды. Эта неоднозначная
правда о евреях и неевреях в годы нацистской оккупации Украины составляет
главное содержание и выбранного мною отрывка, и всего романа «Жизнь и судьба» в
целом. Однако
даже авторы-реалисты пользуются художественными приемами, метящими мир вымысла.
Так, Василий Гроссман заговорил женским голосом еврейской матери, воспитанной в
интернациональном духе и вынужденной переосмыслять свое еврейство в созданном
нацистами гетто. Американец Леон Юрис, специально изучавший реальные архивы
Варшавского гетто и истоптавший улицы, где оно находилось, курсивом выделяет в
ткани романа якобы документальные фрагменты из «дневника» Александра Бранделя,
чтобы лишний раз напомнить читателю, что все остальное – плод его фантазии, а
повествование Ежи Анджеевского, мало того, что насыщено рефлексией польского
интеллигента Яна Малецкого, еще и слишком выпуклое, слишком сгущенное и
красочное, чтобы мы спутали его с черно-белой лентой хроникального фильма. Ежи Анджеевский
(1909–1983) – поляк, католик, уроженец Варшавы – опубликовал свою первую
повесть еще в 1938 году и сразу заявил о себе как автор, которого волнуют
этические проблемы. В 1945 он выпустил сборник рассказов «Ночь» о периоде
немецкой оккупации Варшавы. Его роман «Пепел и алмаз» (1948) был экранизирован
польским режиссером Анджеем Вайдой с Збигневом Цыбульским в главной роли. Зрители
моего поколения смотрели этот фильм снова и снова, завороженные силой игры
актера и остротой этического конфликта. Повесть «Страстная неделя» также была
экранизирована Вайдой, но уже в постперестроечном политико-культурном контексте,
в 1995 году, и его лейтмотивом стал алый цвет пламени над сражающимся гетто.
Главный герой повести, хороший, интеллигентный и порядочный человек Малецкий войной
был поставлен в обстоятельства, вынуждавшие его стать героем, тогда как он
этого не сумел, и тяжесть моральной ответственности за «неспасение» знакомых
евреев легла на его душу и совесть. Станислав Выгодский
(1907–1992) – еврей. Он с юности вступил в коммунистическую партию, сидел в
тюрьме за политическую деятельность в довоенной Польше. Его рассказы,
опубликованные в те годы, окрашены революционно-пролетарским пафосом. Годы
нацистской оккупации он провел в концлагерях: Освенцим, Ораниенбург, Дахау. Все
его родные и близкие погибли, и он посвятил им книгу стихов «Дневник любви»
(1948). С 1968 года Станислав Выгодский жил в Израиле, где его активно печатали
в переводах на иврит. В
отличие от повести Анджеевского, будто бы тоже реалистический рассказ Выгодского
«Человек с тележкой» начисто лишен психологизма и красочной описательности. Ни
пейзажа, ни портретов. Анонимность персонажей, настойчивое повторение одних и
тех же социальных определений: мужчина, эсэсовец, мать, врач и т.п. – расширяют
границы повествования, превращая частный случай в притчу, в обобщенную модель
человеческих отношений на территории Катастрофы. В этом рассказе отчетливо
проводится мысль о том, что евреев вытеснили из людского сообщества. А
завуалированно притчевый характер рассказа «Берта» во многом создается именно выбором
фамилий главных героев: Шац – это аббревиатура ивритских слов «шлиах цибур»,
т.е. представитель общества, а Кац – «коэн-цедек», т.е. еврейский
священнослужитель, потомок библейского Аарона. Берта Кац замыкала на себе мир
Макса Шаца, придавала его существованию цель, направление и гармонию подобно
тому, как представителю общины в синагоге задает направление и цель еврейское
священнодействие – молитва. Стоило Максу остаться в одиночестве, как чужой и
незнакомый мир обступил его со всех сторон, приблизился и распался на отдельные
предметы. Метафорика описаний природы и кодировка собственных имен, как
кажется, хотят навести читателя на символическую интерпретацию рассказа – на
тему о сути еврейства в живущем не по галахе национальном обществе. Аппельфельд
связывает эту суть не с религиозным или светским образом жизни, а с
экзистенциальной верностью еврея своим ушедшим предкам и соплеменникам,
верности, которая закодирована фамилиями героев и которой ни Макс, ни, похоже,
сам писатель не умеют подобрать названия, хотя она ощущается каждым, кто привык
размышлять над этим вопросом. В стремлении обойти
невыразимую правду о Катастрофе окольными путями художественных средств
писатели вступают в область литературы, резко выходящей за рамки реализма. Так
сделал Эли Визель, когда трижды прервал плавное мемуарное течение романа
«Следующее поколение»16
и представил на суд читателя порожденные опытом Катастрофы беспощадные вопросы,
ответы на которые все еще не удовлетворяют вопрошающих. Его «Диалоги» не имеют
ничего общего с пьесой о конкретных людях, поскольку их участники полностью
обезличены, а реплики могли бы звучать и безусловно звучали в той или иной
форме повсюду, где живут евреи, независимо от того, какая у этого еврея
биография. Здесь обобщение возведено в художественный принцип, реалистические
детали скупы до предела, и тем не менее читатель в состоянии «проявить» текст
как фотопленку и рассмотреть в нем едва проступающие черты жуткого прошлого. Писатель
обсуждает мучительный вопрос о том, почему один выжил, а другой погиб. Обнажает
безуспешные попытки выстроить модель мира, проясняющую отношения между Добром и
Злом, Смыслом и Бессмысленностью человеческого существования. Говорит о поиске
Бога и, коль скоро Бог вписан в картину мира, – о стремлении постичь Его волю и
предпочтение. «Диалоги» Визеля – интеллектуальный вызов всякому, кто
утверждает, что понял феномен Катастрофы, они не позволяют вытеснить Катастрофу
в раз и навсегда осмысленное прошлое и превратить ее в музейный экспонат. Эли Визель – американский писатель, пишущий
по-французски. Ицхак Башевис-Зингер (1904–1991) – тоже американский писатель
еврейского происхождения, но пишет он на идише. Башевис-Зингер родился в семье
раввина и вырос в бедноте и тесноте еврейской Крохмальной улицы. В 1935 году он
переехал в США и сделался идишским журналистом, время от времени публикующим
небольшие рассказики. Благодаря английским переводам его произведения стали
известны широкой нееврейской публике и быстро завоевали признание, а автора
побудили развивать и совершенствовать написанное для периодики. Правдивое и
яркое изображение евреев, одержимых плотскими страстями и не менее сильным
стремлением к святости и чистоте, занимательность сюжета и убедительная
достоверность деталей сделали его книги бестселлерами. В 1978 году этот
идишский писатель, автор многих романов и сборников рассказов, был удостоен
Нобелевской премии по литературе. Роман Башевиса-Зингера «Раб» о временах хмельнитчины
вышел на идише немного раньше, чем роман Эли Визеля о Катастрофе. Несмотря на
то, что художественное время книг разделено тремя столетиями, обе они являются
плодом размышлений о геноциде, которому подвергся еврейский народ.
Башевис-Зингер задает те же вопросы, что и бестелесные персонажи «Диалогов»,
только вкладывает их в уста и мысли вполне реальных людей: еврея Якова и
принявшей иудаизм польской крестьянки Ванды, его жены, просто евреев: – За что нам это? Ведь Юзефов был
местом, где учили Тору? – Такова воля Всевшынего. – Но почему? Чем виноваты малые дети?
Злодеи засыпали их живыми. – Три дня колыхался холм за синагогой… – Что мы им сделали плохого? Не было ответа на эти вопросы. Сплошной
загадкой являются человеческие страдания и человеческое злодейство… Разве может
Создатель раскрыть Свое величие без помощи гайдамаков? Должны ли младенцы быть
заживо похороненными?.. Якову слышался их придушенный крик. Даже если души
детей вознесутся к светлейшим чертогам и будут наивысшей мерой вознаграждены,
все равно невозможно стерпеть эти муки, этот кошмар…17 Было свыше человеческих сил
представить себе все истязания. Реальность Катастрофы превысила порог
человеческого понимания реальности, и как следствие – запредельное перестало
казаться таковым. Катастрофа, разразившаяся на пике достижений науки и
торжества разума, пробила брешь в стене между земным и иными мирами.
Неудивительно, что в рассказе Башевиса-Зингера «Кафетерий» автобиографическое
повествование и реалистическая манера письма вобрали в себя мистические извивы
сюжета. Мертвые живут среди живых, беседуют с ними – в исконном, привычном для
нас обличье или в образе иных, прежде незнакомых нам людей. Мечто о Мессии и
Небесном Иерусалиме, воплощения которой со дня на день ждали наши предки,
казалось бы напрочь вытеснена из сознания человека, все культурное окружение
которого свидетельствует об утрате веры в Божественное Провидение, но вдруг: «Я отдернул занавеску и всмотрелся в
ночь – глухую, непроницаемую, безлунную... Я размышлял о ее рассказе – о
видéнии Гитлера в кафетерии. Раньше мне это казалось полным вздором, но
сейчас я начал все переосмысливать заново. Если пространство и время лишь формы
нашего восприятия, как доказывает Кант, а качество, количество, случайность –
лишь категории нашего разума, то почему бы Гитлеру и в самом деле не
встретиться со своими молодчиками в кафетерии на Бродвее. Эстер не походила на
безумную. Ей удалось увидеть ту часть реальности, которую, как правило,
запрещает нам показывать небесная цензура».18
Башевису-Зингеру часто
задавали вопрос о том, религиозен ли он, ведь в Варшаве он некоторое время
учился в ортодоксальной иешиве Тахкемони. Он всегда отвечал, что верит в Бога,
и называл свою веру «кашей из мистицизма, деизма и скептицизма». Писатель
полагает, что Бог всегда рядом с человеком, но это не значит, что Он спешит
вмешаться в земные дела. К жанру народного предания
обратился Цви Колиц, автор «Легенды об убитом цветке». Манера писателя тоже
нереалистична: она напоминает прихотливо-орнаментальные рисунки художников art nouveau (европейского модерна). Цви Колиц – потомок
знатной раввинской семьи литовских евреев. Еще до Второй мировой войны он
переселился в Палестину, где был дважды арестован британской полицией по
подозрению в принадлежности к еврейскому подполью. В годы войны работал в Еврейском
Агентстве, вербуя в Иерусалиме смельчаков для переправки в Европу с заданием
препятствовать уничтожению соплеменников. В
основе его «Легенды» лежат древнейшие универсальные представления человека о
том, что мертвые, особенно умершие не своей смертью, не исчезают бесследно, а
возвращаются к живым цветами или выросшим над тайно схороненным трупом деревом
или кустом. Подобный мотив встречается в сказках и легендах разных народов. В
нашей книге он реализован также в идишском стихотворении Матвея Грубияна
«Годину убийств я пережил», где жизнеутверждающий зачин противоречит трагедии
лирического сюжета: погибший герой пророс из земли деревом. На
этот культурный архетип накладывается не менее древнее знание о том, что
мертвые тела утучняют землю, и она одевается буйным растительным покровом.
Оттого, как видно, и стихотворение «Возвращение в Освенцим» Авнера Трайнина,
кстати израильского ученого в области физической химии, кончается восклицанием:
«О, сколько здесь цветов!». Для
своей «Легенды» Колиц выбрал мак, цветок, имеющий собственные коннотации: в
мифопоэтической традиции он связан со смертью. В греческой мифологии, например,
мак – атрибут Гипноса, божества сна, брата-близнеца Танатоса, божества смерти,
и посвященный Катастрофе поэтический сборник Пауля Целана, из которого взято
стихотворение «Псалом», называется «Мак и память» (1952). Но «Легенда» Колица
заставляет вспомнить еще один мифологический сюжет. В римской версии греческого
мифа о Деметре и ее дочери Персефоне (у римлян – Церере и Прозерпине), похищенной
Аидом и вынужденной две трети года обитать в царстве мертвых, безутешная мать
ищет и ищет свою дочь, пока на забредает на маковое поле и, нарвав букет маков,
засыпает от их дурманящего запаха. В христианской литературе мак нередко
становится символом невинно пролитой крови19.
Тот же мотив распространен в литературе современного Израиля, более того, здесь
принято не рвать дикие маки и алые анемоны, дабы не оскорблять памяти павших
еврейских бойцов. Как сказано в написанном под впечатлением боев Войны за
Независимость стихотворении израильского поэта Хаима Гури «Вот лежат наши
трупы» (1949): «И кровь наша капля за каплей кропит еще тропы лесные... Мы
красными стали цветами...»20.
Не исключено, что многочисленные мифологические ассоциации совместились у
Колица еще и с еврейским мистическим понятием «гилгуль», то есть реинкарнация
души. Рассказ
Аарона Зуссмана (р. 1948, Бруклин) «Гонки на колесницах» использует
старый прием легализации авторской фантазии – герой признается, что ему часто
снится сон, «немного мистический, но современный... даже спортивный». Неистовые
бега символизируют поединок между Богом, Творцом и Властителем всего сущего, и
Гитлером, персонифицированным Злом, Сатаной в человеческом обличье. Образ Бога
на колеснице описан в мистическом откровении библейского пророка Иезекииля (Кн.
Иезекииля / Иехезкеля, гл. 1). Где, по отношению к Создателю, находится Зло? Кто
из двоих побеждает в этом мире и почему? Эти вопросы кажутся особенно сложными
и болезненными после опыта Катастрофы. Гораздо
глубже погружен в мир кабалистических представлений Лайонел, герой рассказа Марио
Саца «Число Имени». И снова опыт Катастрофы, о котором сказано тут совсем
немного, свидетельствует об одном – о бессознательной могучей воле человека к
жизни. Однако сознание отказывается принять наградой за перенесенные муки жизнь
в несправедливом и жестоком мире. Несоответствие страдания и воздаяния
свидетельствует об абсурдности мира и человеческого бытия. Лайонел, как и Макс
Шац, ищет точку опоры своему существованию, но, в отличие от аппельфельдовского
Макса, он эту опору находит. Нацисты
отняли у Лайонела человеческое имя, стерли индивидуальность, заменив ее номером
56510, однако поиски разумности Божьего замысла методами еврейской мистики
вознаградили его несравненно более весомым именем – Именем Владыки Миров. По
примеру Господа, Который некогда положил конец хаосу и дал начало
структурированному мирозданию, Лайонел, на руке которого значилось в цифровой
кодировке Имя Творца, едва прочел это Имя – постиг смысл бытия, созерцая
внутренним взором послушное воле Создателя и прекрасное рождение вселенной.
Знание, зиждящееся на вере, дало герою опору, которую отказывался дать материалистический
рационализм. Марио Сац (р. 1944,
Буэнос-Айрес) прожил в Аргентине до 1966 года и пишет на испанском. Оставив
родину, он несколько лет путешествовал по Европе, а в 1970 году переехал в
Израиль, где изучает еврейские источники и увлекается естествознанием;
опубликовал две книги из серии «Планетарий» – «Солнце» и «Луна». Еврейская мистика как
альтернатива историческому материализму часто противостоит скепсису,
разъедающему душу верующего при мысли о Катастрофе. Представление о творящей
силе Божьих Имен, в частности Тетраграмматона21,
отразилось и в сугубо еврейском предании о Големе (ивритское «голем» означает «истукан»,
а также «глыба, неоформленное нечто» и сродни слову «сырье»). Считается,
что правильное произношение Тетраграмматона утрачено, а те, кто владели этим
знанием, обладали сверхъестественными способностями, могли, подобно Богу, вдыхать
и пресекать жизнь. Этим Именем пользовались кабалисты для совершения
мистических путешествий в иные миры, этим Именем раввин Чешского королевства
Иегуда Лёв (акроним Махарал; 1512–1609) создал в Праге Голема, искусственного человека,
которого вылепил из глины и оживил путем произнесения Тетраграмматона. По
другой версии, Махарал не знал, как произносится это Имя, а просто написал соответствующие
четыре буквы на клочке бумаги и сунул Голему в рот. Его Голем верой и правдой
служил своему создателю; обладая нечеловеческой силой, он помогал защищать
гетто от внешних врагов, а в мирное время выполнял тяжелую физическую работу.
Однако он не был разумным, и его неразумие не раз приводило к курьезным и даже
опасным ситуациям. Предания
о пражском Големе вдохновляли многих еврейских и нееврейских писателей. Из
евреев о Големе писали Г. Мейеринк (1868–1932), Давид Фришман22
(1859–1922), И. Башевис-Зингер, Э. Визель и ряд других, из европейцев – романтики
А. фон Арним («Изабелла Египетская») и Э.Т.А. Гофман («Тайны»). Под
впечатлением романа Густава Мейеринка («Голем», 1915, рус. пер. 1922) находился,
видимо, и знаменитый аргентинец Хорхе Луис Борхес, написавший стихотворение
«Голем»23.
Приведу из него несколько выдержек: ...Но мир живет
уловками людскими С их простодушьем.
И народ Завета, Как знаем, даже
заключенный в гетто, Отыскивал
развеянное Имя. И не о мучимых
слепой гордыней Прокрасться
тенью в смутные анналы – История вовек
не забывала О Старой Праге
и ее раввине. Желая знать
скрываемое Богом, Он занялся бессменным
испытаньем Букв и,
приглядывась к сочетаньям, Сложил то Имя,
бывшее Чертогом, Ключами и
Вратами – всем на свете, Шепча его над
куклой бессловесной, Что сотворил,
дабы открыть ей бездны Письмен,
Просторов и Тысячелетий... ...И так был
груб и дик обличьем Голем, Что кот раввина
юркнул в безопасный Укром. (О том
коте не пишет Шолем, Но я его сквозь
годы вижу ясно)... ...К Отцу
вздымая руки исступленно, Отцовской веры
набождною тенью Он клал в
тупом, потешном восхищенье Нижайшие
восточные поклоны. Творец с
испугом и любовью разом Смотрел. И
проносилось у раввина: «Как я сумел
зачать такого сына, Беспомощности
обрекая разум?»... ...В неверном
свете храмины пустынной Глядел на сына
он в тоске глубокой... О, если б нам
проникнуть в чувства Бога, Смотревшего на
своего раввина!24 Борхес обратился к древнему
еврейскому преданию не только из-за его чарующей экзотичности, но и чтобы
задаться гораздо более общим теософским вопросом об отношении Создателя к
своему творению – человеку. Авторы
часто прибегают к каноническим сюжетам с целью поведать о чем-то своем, злободневном,
далеком от времени легендарных событий. Таков рассказ Фридриха Торберга
«Возвращение Голема», где исторический факт времен Второй мировой войны
совмещен с поверьем, кстати лежащем в основе вышеупомянутого романа Г.
Мейеринка, о том, что живой Голем периодически возвращается в Прагу. Немцы
заняли Прагу еще до начала войны, 15 марта 1939 года, и создали в оккупированном
городе «Бюро попечительства над оставленной евреями собственностью и
имуществом» (Тройхандштелле). Это Бюро использовало под склады еврейские
здания, в том числе 11 синагог (ни одна из них не пострадала). По инициативе
еврейских ученых в Прагу начали свозить предметы еврейского религиозного
обихода из 153-х еврейских общин Богемии и Моравии: евреи заботились о
сохранении своих святынь, а нацисты задались целью создать «Музей исчезнувшего
народа». Эти факты, как и загадочная гибель высокого нацистского чиновника в
старинной пражской синагоге, образуют реалистическую канву сюжета, мистическая
подоплека которого – вера в то, что Голем в трудный час непременно приходит на
помощь евреям. Оттого и описания «неуклюжего слабоумного парня» Кнопфельмахера создают
образ ожившей куклы вроде тех, что в открытую именовались Големом в произведениях
предшественников. Фридрих Торберг (1908–1979)
родился в Вене в семье зажиточного фабриканта. Он рано начал писать стихи и
мечтал стать поэтом. В 1921 году семья переехала в Прагу, а в конце 20-х он
стал сотрудником немецкой газеты «Прагер Тагблат» и вскоре начал писать свой
первый роман, который был издан в Вене при посредстве Макса Брода под
псевдонимом, составленным из фамилий отца (Кантор) и матери (Берг). В момент
«аншлюсса» Австрии Торберг был в Праге, и летом 1938 года началась его эмиграция.
Он хотел перебраться в Швейцарию и направился во Францию, где с началом войны
вступил в ряды чехословацкой армии в изгнании. В июне 1940 он совершил побег из
Франции в Испанию, затем в Португалию, где при содействии Джойнта и
американского ПЕН-клуба получил американскую визу как «выдающийся немецкий
писатель-антифашист»25.
В США он направился в Голливуд и помимо романов и повестей стал писать
сценарии. В 1951 году Торберг вернулся в Вену. В его творчестве, насчитывающем
семь романов, несколько сборников рассказов, эссе и сценариев, постоянно так
или иначе разрабатывается еврейская тема. В
рассказе «Возвращение Голема» оценку роли национальной традиции в судьбе
еврейского народа автор вложил в уста нациста Качорского, одного из наиболее
отталкивающих персонажей: «Вообще, эти истории действуют разлагающе, и то
обстоятельство, что они продолжают передаваться со всеми подробностями, отнюдь
не следует считать таким уж невинным. Более того, мы имеем здесь дело с одним
из самых опасных – ибо он искусно замаскирован! – истоков еврейской
жестоковыйности и способности к сопротивлению». Хотелось бы отметить, что
мифологизированное еврейское сознание отвело особую роль камню как хранителю
памяти. Вспомнить хоть библейский «гал'эд», буквально «холм-свидетель», поставленный
праотцем Иаковом при заключении союза с Лаваном: «Теперь заключим союз я и ты,
и это будет свидетельством между мною и тобою. И взял Иаков камень и поставил
его памятником» (Бытие / Берешит, 31:44-45). На памятливость камней опирается
Иехошуа бин Нун: «И вышел народ из [реки] Иордан в десятый день первого
месяца... и двенадцать камней, которые они взяли из Иордана, Иехошуа поставил в
Галгале. И сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши
отцов своих: что значат эти камни? Скажите сынам вашим: Израиль перешел через
Иордан сей по суше» (Иисус Навин / Иехошуа, 4:19-20). А позднее о неподкупном
свидетельстве камней скажет пророк Аввакум (Хаввакук; 2:9, 11-12): «Горе тому,
кто жаждет неправедных приобретений для дома своего!.. Камни из стен вопиют и
перекладины из дерева будут отвечать им. Горе созидающему город на крови!..» Иной аспект мотива «помнящих
камней» возникает в стихотворении идишского поэта Матвея Грубияна «Камень». Здесь
у камня тоже есть голос, но звучат не свидетельские показания, а жалоба: тот,
чей век соразмерен истории, вынужден страдать под игом безмерной боли; тот, над
кем не властна смерть, обречен помнить о смерти не своей. Матвей Михайлович Грубиян (1909–1972) родился в местечке под Киевом в семье учителя. В 1938 году окончил
литературный факультет Минского пединстита. Печатался в харьковской детской
газете на идише «Зайт грейт». В июне 1941-го ушел на фронт, а в 1943-м был
ранен и демобилизован по состоянию здоровья. Переехал в Москву, сотрудничал в
идишском издательстве «Дер эмес», в газете «Ейникайт», участвовал в
деятельности Антифашистского комитета, был репрессирован, сидел в сталинских
лагерях. В 1956 году был реабилитирован и вернулся к литературной деятельности.
Его поэзию отличает особая образность и ритмика наряду с характерным для
идишской поэзии одушевлением вещей и природы, когда чувства остающегося в тени лирического
героя проецируются на внешние предметы-«заместители» – в нашем случае
строительный камень, – радующиеся и страдающие вместо него. В
отличие от этого стихотворения рассказ Торберга «Возвращение голема» проникнут
еврейским фольклорным сознанием, и камни древних стен пражской Староновой
синагоги (Альтнойшуль) выступают безмолвными свидетелями мученической смерти
безвинно убиенных также и в двадцатом веке. Лишенные опоры в реальности,
связанные нацистским диктатом по рукам и ногам, евреи упорно верят в то, что
откуда-нибудь, но помощь придет. Не на это ли намекает библейский Мордехай
своей венценосной родственнице, когда говорит: «Если ты промолчишь в это
время, свобода и избавление придут к евреям из другого места» (Кн. Есфири /
Эстер, 4:14)? Вера у каждого еврея своя. Одни уповают на Бога, как комментатор
данного стиха Библии, поясняющий, что под словом «место» тут понимается
Господь, другие – как жители Праги у Торберга – надеются на Голема, а в романе
Юрека Бекера «Яков-лжец» согнанные в гетто польские евреи надеются на советские
войска. Юрек Бекер
(1937–1997) родился в Лодзи, Польша. Дата его рождения приблизительна: попав в
гетто (то самое, где находился и идишский поэт Ицхак Каценельсон), отец
прибавил ему несколько лет, чтобы спасти от депортации. За гетто последовали
концлагеря – Равенсбрюк и Заксенхаузен. Мать погибла, а отец и сын встретились
после войны в Восточном Берлине. Здесь Юрек Бекер получил образование, окончил
университет, работал на киностудии. Постепенно он сблизился с диссидентами, впал
в немилось властей и после 1977 года жил в Западном Берлине и преподавал во
Франкфуртском университете. Почти все его книги автобиографичны, и в них неизменно
звучит тема Катастрофы. «Яков-лжец»,
первый роман Бекера, был написан в 1969 году и сразу принес автору широкую
известность. Роман переведен на многие языки, в том числе на иврит, удостоен
нескольких литературных премий, в 1999 году был экранизирован (главную роль сыграл
знаменитый американский комик Робин Вильямс). Перу Юрека Бекера принадлежат
также романы «Бессонные дни», «Власти введены в заблуждение», «Боксер» (русский
перевод – изд-во Текст, 2000). В книге «Яков-лжец» гетто предстает в череде
зримых характерных типов и курьезных эпизодов, ткань повествования проникнута
юмором и трагизмом, заставляя вспомнить лучшие вещи Шолом-Алейхема о местечке.
Яков Гейм сначала случайно, а потом сознательно «навевает золотой сон» о скором
освобождении обитателям гетто, поскольку убежден, что жизнь с надеждой
очеловечивает, позволяет обрести крылья душе, томящейся в теле, которое
страдает от недоедания и неволи. Меж реальностью и мифом
балансирует и рассказ-пролог к роману «Шаль» американской писательницы Синтии
Озик. Озик живет в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк, и не прошла через горнило
Второй мировой войны. Эта известная во всем мире писательница – автор повестей,
романов, критических эссе, рецензий, переводов, составитель антологий –
удостоилась многих литературных премий США. Однако после того, как ее рассказ
«Шаль» увидел свет на страницах престижного журнала «Нью-Йоркер», Синтия Озик
получила возмущенное письмо, в котором переживший Катастрофу человек советовал
ей не трогать эту тему, дабы не фальсифицировать ужасающие, не поддающиеся
описанию события. Писательницу глубоко ранила реакция читателя, недвусмысленно
давшего ей понять, что незачем говорить о том, к чему не имеешь
непосредственного биографического касательства. Озик выступила с открытым
ответом, и на помощь ей пришел всеми любимый текст еврейской традиции: «...должен чувствовать, как если бы
он сам вышел из Египта... Исход из Египта произошел 4000 лет назад, и все
же Пасхальная Агада учит и меня сопричастности, требует впитать его опыт в свою
плоть и кровь, вести себя так, будто все это случилось непосредственно со мной,
более того – будто я была не просто свидетелем, а участником Исхода. Что ж,
если мне предлагают соучастие в событии, отстоящем от меня на 4000 лет, то еще
более тесно и нерасторжимо я связана с событием, после которого прошло всего 40
лет»26. Короткий рассказик писательницы силою искусства,
языком метафоры и тщательно отобранной детали, сумел защитить читателя от травмирующих
зрелищ – бараков и их бесправных обитателей, изощренных издевательств нацистов
и бесстрастной рутины концлагеря, дымящихся крематориев, – защитить, не утаивая
правды, но смещая поле читательского зрения и переключая его внимание на иные
объекты. Оттого и название выбрано ею вроде бы вне мира людей – «Шаль», словно и впрямь, не Роза или девочки, а вещь является тут главной
героиней. В художественной литературе о Катастрофе на удивление редко заходит речь о мести, словно скорбь, страдание, этика, поиски ответа на проклятые вопросы вытеснили самую мысль о мщении. А возможно знаменитый библейский стих, взятый Львом Толстым как эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам» (Второзаконие / Дварим, 32:35) – укоренился в еврейском сознании представлением о том, что месть и впрямь «в руке Божией», как сказано: «Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и исцеляю... Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя примет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам» (там же, ст. 39–40). В свете сказанного особенно значимым кажется стихотворение израильского поэта Натана Альтермана «Молитва о мести». Это написанное в годы войны стихотворение следует структуре молитвенных благословений «Шмонэ-эсрэ», которые евреи произносят трижды в день стоя, отчего молитву называют «Амида». В ней 19 благословений, и каждому из них предшествует обращение молящегося к Богу с просьбой, опирающейся на Его определенные качества или деяния, например, молитва «о могуществе Всевышнего» выглядит так: Твое могущество
вечно, Господь, Ты возвращаешь
мертвых к жизни, Ты – великий избавитель... питающий по
доброте Своей живых, по великому
милосердию возвращающий мертвых к жизни, поддерживающий
падающих, и исцеляющий
больных, и освобождающий
узников, и исполняющий
Свое обещание [возвратить жизнь] покоящимся в земле... Благословен Ты,
Господь, возвращающий мертвых к жизни!27 В соответствии с
этим каноном Натан Альтерман помещает в заключительных строках «Молитвы о мести» свое благословение: «Благословен Ты, Господь
мертвецов!», звучащее трагическим диссонансом цитированному выше. «
велико мое наказание – не снести»
style='color:black;letter-spacing:.6pt'> (Бытие / Берешит, 4:13). Весь этот
арсенал еврейской религиозной текстовой традиции служит для легализации новаторства:
в отличие от поэтов прошлого Альтерман отвечает на национальное бедствие не покаянной
ламентацией, подобной Плачу Иеремии, а гневным требованием отмщения. Особый ракурс в освещении Катастрофы возникает,
когда в фокус поэзии или прозы попадает ребенок. Как известно, в литературе
детское восприятие позволяет автору сместить акценты, высветить, условно
говоря, тыльную, оборотную сторону вещей. Кроме того, вечные истины, звучащие
из детских уст, не покажутся читателю ни банальными, ни излишне патетическими,
а детское недоумение перед лицом неправды и несправедливости не вызовет ни
колкой насмешки, ни высокомерной читательской гримасы. В целом же допустимо
сказать, что повествование от лица ребенка защищает писателя от обвинений в
обидной наивности. В произведениях на столь щекотливую и сложную тему, как Катастрофа, подобный прием встречается довольно часто. Здесь мне хотелось бы остановиться на коротеньком рассказе поляка Корнеля Филипповича Гениальный ребенок. Это всего один эпизод из времени Катастрофы, данный в ретроспекции: выросший и, вероятно, живущий за границей Игнась Фишман делится с французом де Тоннелье воспоминанием о детстве. Реакция слушателя заинтересованная, даже восторженная: «Вы были гениальным ребенком!» – восклицает де Тоннелье. Отчего же Фишман заключил, что его собеседник «ничего не знает и ничего не понял»? Отчего и тут за текстом рассказа угадываются контуры пресловутой метафоры – «запечатанного вагона»? Мне думается, что еврей Фишман хотел на примере случая из собственной биографии показать, насколько деформированным и нравственно ущербным был образ жизни в Польше, когда там окончательно решали еврейский вопрос, однако сторонний взгляд француза уловил лишь находчивость ребенка, будто тот не за жизнь боролся один на один с хорошо отлаженной оккупационной машиной, а искал и нашел изящное решение сложной шахматной задачи. (1913–?) родился в Тернополе в семье служащих. Изучал биологию в Ягеллонском университете в Кракове, с 1936 года начал печататься. С первых дней войны сражался с гитлеровцами, попал в плен, бежал, входил в подпольную коммунистическую группу «Народная Польша». В 1944-м был арестован гестапо и до окончания войны находился в концлагерях – сначала в Гросс-Розене, потом в Ораниенбурге. Многие его романы и рассказы написаны на автобиографическом материале. Рассказ
«Гениальный ребенок» написан поляком от лица еврея. Это нетипично. Среди авторов книги
большинство – евреи. Тем пристальнее и пристрастнее будет взгляд читателя,
обращенный к произведению нееврея. Таково знаменитое стихотворение Евгения
Евтушенко «Бабий Яр», историю публикации которого я дала в примечании к тексту.
Оно свидетельствует о том, что Катастрофа оказалась нравственным испытанием
даже для тех, чьи биографии она обошла. Русский юноша, взращенный на российской
традиции поэта-пророка, провозглашающего любви и правды светлые ученья и в
жестокий век славящего свободу, он также был воспитан бабушкой «держать ответ
за все плохое в мире» («Бабушка», 1956) и потому в открытую заявил о своей
совестливой и гуманной позиции. Евгений Евтушенко родился в
1933 году на станции Зима Красноярского края. Его отец был геологом, всю жизнь
писал стихи и научил сына любить поэзию. После войны семья переехала в Москву,
где будущий поэт сначала занимался в поэтической студии дворца пионеров, затем
посещал литконсультации издательства «Молодая гвардия». Регулярно начал
печататься с шестнадцати лет, но началом серьезной работы сам поэт считает
стихотворения «Вагон» и «Перед встречей» (1952). В 1951 году поступил в
литературный институт им. М. Горького, в 1950-е выпустил серию поэтических
сборников: «Третий снег» (1955), «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957)
и др. После опубликования во французском еженедельнике «Экспресс» своей
«Автобиографии» (1963) впал в немилость властей. Сегодня имя Евтушенко известно во всем мире. Он живет и работает в Москве, преподавал в американских университетах русскую поэзию по собственной «Антологии русской поэзии». Помимо стихов им опубликованы несколько крупных поэм и проза, по его сценариям поставлены фильмы, многие стихи стали песнями. Отношение к Катастрофе тех, кто жил или родившихся
вне или после нее, составляет главную проблематику произведений, завершающих
данную книгу. Давид Гроссман, популярный
в Израиле прозаик, пишет на иврите. Он родился в 1954 году в Иерусалиме, и в
образе Мумика сошлось несколько автобиографических обстоятельств. Так, отец
писателя, как и отец его маленького героя, был польским евреем, правда, в
отличие от отца Мумика, он перебрался в Палестину еще до войны, однако все его
оставшиеся в Европе близкие погибли в Катастрофе. Маленький Мумик –
главный герой романа «Смотри
слово: любовь». Родители мальчика пережили
Катастрофу, но стараются
скрыть от сына то, что было с ними в годы нацизма, уберечь от жестокой правды. Однако
Мумик – умный и пытливый мальчик, которому во что бы то ни стало нужно реконструировать прошлое. Действие
романа происходит в 1959 году, когда люди, пережившие Катастрофу, еще живы и
хоть в какой-то степени доступны для непосредственного общения. Впрочем, общение
это более чем условно: эти люди довременно состарились, они изуродованы
физически и деформированны душевно, но они – люди, и даже иногда родители. Предоставив слово
ребенку, автор дал свежий, не скованный идеологическими или литературными шаблонами
взгляд на предмет. Ребенок еще свободен, его оценки не обязаны подчиняться
обывательскому суждению. Давид
Гроссман сумел любовно и правдиво нарисовать целую галерею людей с несмываемым
номером на руке, так что при всех своих немочах они не кажутся калеками, и
читатель не испытывает неловкости, смеясь над ними. Помимо этого роман Д.
Гроссмана затронул чрезвычайно важную тему – воспитание новых поколений, не
знавших ужасов, выпавших на долю старших. Эта тема волновала его вероятно еще и
потому, что дома подрастал сынишка, о чем нетрудно догадаться по серии опубликованных
им тогда детских книжек о мальчике Итамаре28.
Ту же тему поднял в своем стихотворении Меир
Визельтир (р. 1941), ведущий израильский поэт 70–80-х годов. Его отец погиб
на фронте, а мама, Раиса Марковна, проведшая военные годы в эвакуации в
Новосибирске, где у нее родился Меир, сумела сразу же после войны вывезти детей
в Израиль. Израильская девочка Илана растет в благополучной
обстановке, она, надо думать, живет на поколение позже, чем Мумик, а потому уже
не застала исковерканных дедов и бабушек. Альбом с фотографиями – взрослая
книга о Катастрофе – привлекает ее внимание, но запечатленный там мир столь
странен и невесел, что она решает внести свою коррективу и расцветить
черно-белые снимки. Меир Визельтир – жесткий, порой язвительный поэт и человек
не робкого десятка. Он опубликовал немало стихов, беспощадно критикующих
аморальность поведения израильтян в самых разных ситуациях, но в этом
стихотворении, как кажется, не все безнадежно: если в доме хранят память о
Катастрофе, Илана, конечно же, со временем о ней узнает. На рабочем столе израильского
поэта Иегуды Амихая стояла фотография маленькой Рут – сожженной в печах
Освенцима девочки-одноножки из его детства, образ которой вновь и вновь возникал
в его стихах и прозе, тревожа память и совесть. «Иегуда
Амихай (1924–2000) родился в южно-немецком городе Вюрцбурге, в
ортодоксально-религиозной еврейской семье состоятельного буржуа, и ходил в
еврейскую школу. В Вюрцбурге была большая еврейская община, имевшая, помимо
школы, свою учительскую семинарию, больницу и дом престарелых. В 1935 году семья,
спасаясь от нацистов, прибыла в Палестину, недолгое время провела в
Петах-Тикве, а потом осела в Иерусалиме, где Амихай в 1942 году закончил
религиозную гимназию «Маале». Как он писал в стихотворении «Автобиография в
1952 году»: …В 31-м были руки мои веселы и малы. В 41-м учились они управляться с ружьем. …В 51-м движение жизни моей было дружным движеньем галерных гребцов… В авторском переводе на язык фактов это
звучит так: «во время второй мировой войны я служил солдатом в израильских частях
британской армии. О том, чтоб писать стихи, и не мечтал. Для меня это было
настоящей войной, я хочу сказать, я сумел почувствовать себя участником
сражений»29.
Солдат Амихай большую часть войны служил в Египте и нелегально переправлял в
Эрец-Исраэль оружие и евреев. В 1946-м он демобилизовался и прошел ускоренный
курс обучения в Учительской семинарии (ныне им. Давида Елина) в районе
Бейт-а-керем в Иерусалиме. Пятнадцать лет (с перерывами на войны) проработал
учителем в начальной школе. В 1948 году вступил в Пальмах30
и в 1948-1949 воевал в Негеве, освобождал еврейские поселения от египетской
блокады, и воевал в Синайской кампании в 1956, и в Войне Судного дня в 1973. В
промежутке женился (1949), стал отцом (1961), снова женился (1964), и во втором
браке у него родились сын (1973) и дочь (1978). В 1949 году поступил в Еврейский
университет, где изучал Танах и ивритскую литературу, а в 1954 отправился на
год в Европу... Он преподавал также в семинарии для еврейских учителей из стран
диаспоры, выпустил около 25 книг – стихи, пьесы, рассказы, романы. Удостоился
многих литературных премий, в том числе имени Х.Н. Бялика (1976),
государственной премии Израиля (1982). Участвовал во многих международных
литературных форумах. Удостоился многих почетных титулов и званий»31. Йоэль, герой романа Иегуды Амихая «Не ныне и не здесь» в середине 60-х годов едет в Германию с твердым намерением отомстить за гибель друзей и соседей, евреев родного городка. Для этого он приходит на улицу, где жил, разыскивает уцелевших знакомых. Но чем больше узнает Йоэль о судьбах своих прежних соотечественников, чем пристальнее вглядывается в новую Германию, тем глуше звучит в его душе голос, зовущий к мести. Убаюкивающее, умиротворяющее время затушевывает детали, заслоняет дни и мгновенья индивидуального существования усредненными данными статистики. Прошлое порастает быльем, прячется в глубине памяти, не в состоянии подвигнуть Йоэля на какой бы то ни было акт возмездия. Вместо пепла Клааса, некогда стучавшего в романтическое сердце Тиля Уленшпигеля, современному герою и его создателю досталась в удел обессилевшая, наводящая элегическую грусть память. «С возрастом мы все меньше зависим от течения времени, его излучин» – пишет Амихай в стихотворении «Все это и составляет ритм танца». Отъединенность индивидуального бытия от внешнего хода событий ведет к тому, что лирический герой перестает понимать, «кто танцор, а кто лишь марионетка». Подобно одному из голосов в «Диалогах» Эли Визеля, рассказчик романа и автор стихотворения испытывают замешательство, не умея с уверенностью сказать, кто отдавал приказы, а кто был пассивным исполнителем. В таком случае неясно, на кого должен обрушиться праведный гнев. Наиболее дистанцированную позицию в отношении Катастрофы занял в стихотворении «Мой портной» израильский поэт Натан Зах. Он не отрекается от личной связи с темой – в стихотворении слышна речь его портного, который к тому же «в Берлине был дружен с его отцом». И тем не менее все указания на Катастрофу вынесены за пределы основного текста в скобки – своеобразные авторские ремарки. Как это нередко случается в искусстве, где действующее лицо пьесы, например, может долго рассуждать о необходимости не мешкая отправиться в путь, Зах пишет стихи о Катастрофе и при этом прибегает ко всяческим ухищрениям с целью избежать, как можно порой слышать, « неприятной, оскомину набившей темы. Тут и остранение посредством несобственно-прямой речи (прием сугубо прозаический), и рамка, отсылающая читателя к сегодняшней, далекой от военных лет ситуации. Поэт, как кажется, исподволь, но недвусмысленно утверждает, что катастрофы в неизбежности своей сродни естественной смерти и опротестовывать их следует в одной и той же инстанции. Натан Зах родился в 1929 году в Берлине под именем
Натана Зайтельбаха. Поначалу он подписывал свои стихи и статьи как З-х, а потом
просто – Зах. Его отец был немецким евреем, архитектором, мать – итальянка.
Натан – их единственный сын. В 1935 года он прибыл с родителями в Палестину: «Детство в Хайфе определило всю мою последующую жизнь. В доме моего детства бывали британские офицеры и говорили по-английски и по-французски. Причиною была моя мать-итальянка, этакая мисс Елена. Наподобие известной свахи Елены, только без ее доходов. Она все свое время была занята тем, как бы познакомить людей друг с другом, просватать, выдать замуж всех своих заневестившихся приятельниц. Она была словно помешана на социализации. Может быть поэтому я получился таким асоциальным, похожим на отца, который был полной противоположностью матери. Но
помимо того, что она знакомила и соединяла людей, она еще говорила на языках,
на которых здесь не принято было говорить. На итальянском, французском и,
конечно, на немецком. У нас был открытый дом. Приходили все. Помню, как в
детстве я дружил с одиноким британским офицером, которого судьба забросила
сюда, и у нас он нашел замену дому, и с сыном иорданского министра финансов,
который тоже был завсегдатаем у нас, потому что ухаживал за одной из маминых
подруг. Приходили арабы и друзы, и я получил заряд космополитизма. Я вырос в мешанине
культур и языков и лишь наполовину был израильтянином. Вторая половина всегда
находилась где-то в других краях – по большей части, в литературе…»32. Зах заявил о себе в 50-е годы, причем более как
критик, и снискал славу выдающегося интеллектуала среди израильских поэтов. Он
выпустил несколько поэтических сборников, книгу мемуарной прозы, немало статей
и рецензий. Зах «отвергал всякое поэтическое слово, если оно уходило от
сиюминутного и конкретного и подменяло его символом, обобщением, понятием
величественным или метафизическим. Он отвергал декоративную метафорику, механические,
будто заводные метры, изобличающие,
как он утверждал, глухоту к неповторимому, только раз выпадающему на долю
человека переживанию. Он отказывался смириться с тем, что поэзия возводит стену между организованной и
эстетизированной поэтической речью стихотворения и спонтанной разговорной речью
обычного человека... Поэзия Заха – замысловатая, пессимистическая, ироничная,
не спешащая обласкать читателя... Самые банальные слова у него обрели
значительность поэтического речения»33. Книга заканчивается страшным предостерегающим пророчеством. Его автор – раввин Джек Раймер – получил свой сан в Еврейской Теологической Семинарии в Нью-Йорке и выполнял обязанности раввина в разных общинах Америки. Он также выпустил сборник «Еврейские размышления о смерти» и писал статьи, касающиеся разных аспектов еврейской духовной жизни. Раввин Джек Раймер представил нам свой апокалипсис – повествование о том, что будет «в конце». Он составил антитезу библейской истории Сотворения мира (Бытие / Берешит, 1:1–23), так что мир, поэтапно созданный Богом, симметрично и последовательно разрушается человеком, пока не исчезает вместе со своим терминатором. К сожалению, в этом коротеньком стихотворении в прозе узнаваемы не только библейские праобразы, но и реалии современности. Можно ли помешать этому пророчеству осуществиться? Учили наши Мудрецы: «Все в руках Небес, кроме богобоязненности», а еще учили: «Дети Израиля отвечают друг за друга». Если это правда, то ни один еврей не может быть спокоен, пока другой злодействует или попирает мораль, потому что расплачиваться нам придется вместе. Божье долготерпение и кажущееся невмешательство в нашу повседневность легко внушает нам мысль о безнаказанности, и лишь память о череде еврейских Катастроф доказывает, что эта мысль ошибочна. Будучи избраны Богом ради Его эксперимента – опробовать на нашем народе Тору, мы, как видно, принуждены быть «царством священников и народом святым» (Исход / Шемот, 19:6). Это трудно и это накладывает дополнительные обязательства. Но
если постоянно помнить о Катастрофе, как же тогда жить, как смотреть в будущее,
рожать и растить детей, внуков? Обыкновенный человек не может объять разумом
масштабы наших бедствий. Разве можно, скажем, в Израиле, государстве, где около
пяти миллионов еврейских жителей, представить себе гибель шести миллионов
евреев? С этой мыслью жить невозможно. И тут на помощь вновь приходит мудрость
наших предков, сказавших: «Убивший одного человека словно уничтожил целый мир».
Мудрецы имели в виду все нерожденные убитым и после него поколения. Мне
верится, что каждый из нас в состоянии немножко уменьшить невосполнимую утрату,
и очень простым способом. Вспомним, что все мы – в какой-то степени
родственники погибших. Если мы назовем их поименно – прабабушек и
пра-прадедушек, двоюродных и троюродных, и еще более отдаленных своих родичей,
то получится, будто мы – их потомки, а значит, не удалось нацистам «уничтожить
целый мир». Начну
с себя, а читателям предлагаю продолжить список. Вот имена моих предков,
погибших в Катастрофе: С отцовской стороны:
прадед р. Шломо Вигдорович, папина сестра и ее муж, Мария и Файвл Кнешинские, и
две их дочурки, Зоя, 8 лет, и Зина, 3 лет, – в лагере уничтожения Треблинка,
1943 г. С материнской стороны: прадед Гирш Лейкин, зубной врач, и его жена, детская писательница на
идише Рохл Брохес – в Минском гетто. Светлая им память. Зоя Копельман, Иерусалим.1 Х.Н. Бялик. Под оболочкой языка. В кн.:
Антология ивритской литературы (Еврейская литература ХIХ-ХХ веков в русских переводах ). Сост. Х.
Бар-Йосеф, З. Копельман. М.: РГГУ, 1999. С. 193. 2 Вл. Ходасевич. Из еврейских поэтов.
Сост. З. Копельман. М.–Иерус.: Гешарим, 1998. С. 74. 3 Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. Крылатые слова.
М.: Художественная литература, 1966. С. 265. 4 Н. Закс. Звездное затмение. Пер. В.
Микушевича. М.: НОЙ, 1993. С. 11. 5 Так понимается библейский текст в соответствии со
словарем современного иврита. 6 Р. Левинзон. Ежи Косинский в
Иерусалиме / Народ и земля, № 8, Иерусалим, 1988. С. 106–108. 7 Краткую биографию поэта и библиографию о нем
см. в статье: Л. Найдич. Пауль Целан. Материалы, исследования,
воспоминания // Еврейский книгоноша, № 4, 2003. С. 45–51. 8 С. Аверинцев. Писать стихи после Освенцима.
Предисловие к кн.: Н. Закс. Звездное затмение. Пер. В. Микушевича. М.:
НОЙ, 1993. 9 Н. Закс. Звездное затмение. Пер. В.
Микушевича. М.: НОЙ, 1993. 10 Интервью с А. Аппельфельдом. Журнал «Бицарон»,
Нью-Йорк, апрель 1982. Т. 13–14, вып. 4. С. 5–17 (перевод с иврита мой). 11 Еврейская бригада – еврейская воинская часть в
британской армии в годы 2-й мировой войны, была создана в 1944 г. после долгих
переговоров британского правительства с Еврейским Агентством (Сохнутом).
В 1945 г. была переброшена в Италию. 12 Э. Шифрин. Леон Юрис // «Земля под
ногами», 17 июля 2003, Киев. 13 Ш. Маркиш. Пример Василия Гроссмана. В
кн.: В. Гроссамн. На еврейские темы. Т. 2. Иерусалим: Библиотека-Алия,
1985, 1990. С. 348. 14 И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Соб.
соч. в 9-и тт., т. 9. М.: Художественная литература, 1967. С. 407–408. 15 Н. Роскина. Четыре главы. Париж: YMKA-press, 1980. С. 124. Отмеченная жертвенность
Екатерина Савельевна – наиболее частое проявление еврейского героизма. Моя
знакомая рассказывала, что когда до Черновцов дошли слухи о злодеяниях немцев
по отношению к евреям, многие решились оставить город, но ее мать сказала: «Мы
никуда не пойдем – мы не можем оставить больного дедушку». Полупарализованный
дед, как видно, услышал ее слова, потому что когда дома никого не было, сполз с
кровати, добрался до ванной и утопился. Мать и маленькая Этель ушли из города и
тем спаслись. 16 Э. Визель. Следующее поколение. Пер. с
англ. А. Яковлева. М.: Текст, 2001. Работая над книгой «Опечатанный вагон», я
не знала о существовании этого издания, и перевела фрагменты из Визеля сама,
тоже с английского, назвав его книгу «Одно поколение спустя». 17 И. Башевис-Зингер. Раб. Пер. с идиша Р.
Баумволь. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1976, 1989. С. 85–86. 18 И. Башевис-Зингер. Кафетерий. Пер. Ю.
Миллера. В кн. И. Башевис-Зингер. Сборник рассказов. Иерусалим:
Библиотека-Алия, 1990. С. 20. 19 См.: Мифы народов мира, т. 2. М.: Сов.
энциклопедия, 1988. С. 90. 20 Хаим Гури. Вот лежат наши трупы. Пер.
Р. Морана. В кн.: Д. Мирон. Ивритская поэзия от Бялика до наших дней:
авторы, идеи, поэтика. Иерус.–М.: Гешарим, 2002. С. 152–153. 21 Ссылки на Тетраграмматон мы находим не только в средневековых, но и в
древних иудейских источниках, таких как Книга Еноха, 61:3. 22 Перевод его повести Голем см. в кн.: Д.
Фришман. В пустыне. Пер. с иврита П. Криксунова. Иерусалим: Библиотека-Алия,
1992. 23 Стихотворение написано в 1958 году, а в 1969,
будучи в Израиле, Борхес встретился с ведущим ученым в области еврейской
мистики Гершоном Шолемом, чей труд «Основные течения в еврейской мистике» он
читал задолго до встречи. (Эта книга Г. Шолема переведена на русский язык:
Иерус.–М.: Гешарим, 2004.) 24 Х.Л. Борхес. Голем. Пер. и прим. Б.
Дубина. Цит. по: Х.Л. Борхес. Новые расследования (Произведения 1942–1969).
С.-Петербург: Амфора, 2000. С. 591-593. 25 I. Hilbrand. Friedrich Torberg: Biographische
Skizze. В кн.: Und Lächeln
ist das Erbteil meines Stammes. 1988, S. 13. 26 С. Озик. Каждый еврей (письмо пережившему
Катастрофу, 20 апреля 1983). Цит. по: S. Blacher-Cohen. C. Ozick's Comic Art. 1994. P. 148. 27 Сидур Кол Йосеф, нусах Ашкеназ. Пер. р. Н. Шермана. Ортодокс
юнион русское издание сидура Артскролл, Иерусалим: Шамир, 1994. С. 99–101.
Курсивом выделено собственно благословение. 28 Сын Давида Гроссмана, Ури Гроссман, погиб в бою во
Второй Ливанской войне летом 2007. 29 Интервью Амихая
поэту Якову Бесеру в кн.: Сиах мешорерим (Беседа поэтов), 1971. 30 Пальмах –
отборные боевые части еврейской нелегальной военной организации Хагана, а затем
– Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). 31 З. Копельман. Иегуде Амихаю – вместо
некролога // Иерусалимский журнал, № 7, 2001. С. 212–213. 32 Н. Зах. Горько мне, горький привкус во рту
// Йедиот ахаронот, 17.04.1999. 33 Д. Мирон. Ивритская поэзия от Бялика до
наших дней: авторы, идеи, поэтика. Пер. З. Копельман. С. 71, 73. |